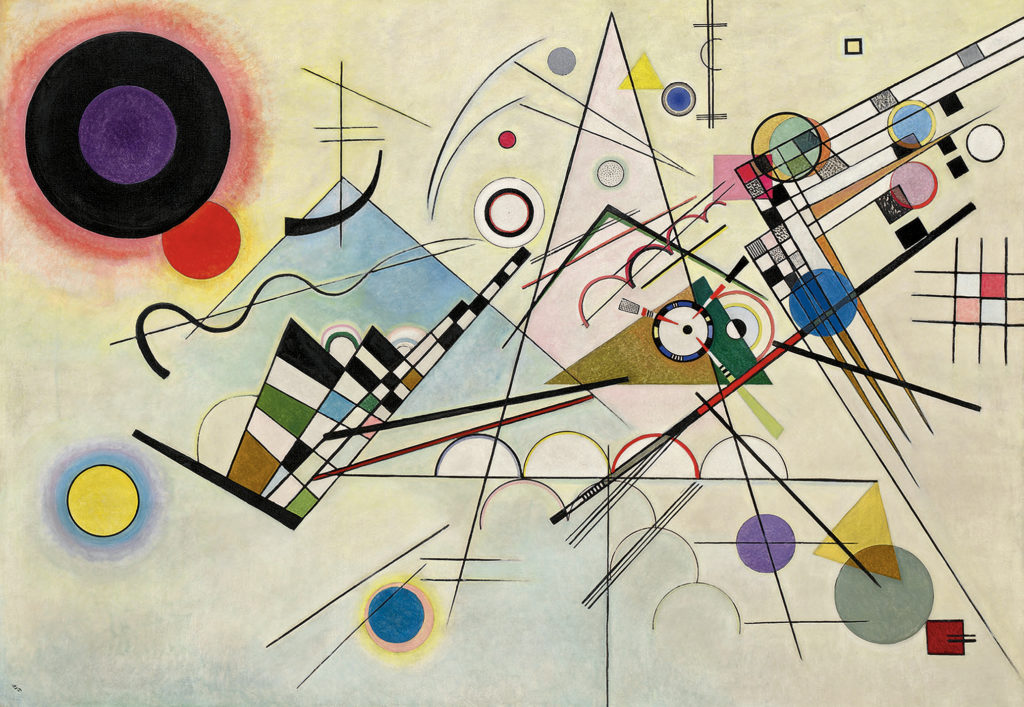 Симфонии во всех тональностях
Симфонии во всех тональностях
В отличие от своего мажорного собрата, тональность ми-бемоль минор с шестью бемолями при ключе – одна из самых редких, в которых создавались симфонии. Их можно по пальцам перечесть.
В «золотом» XVIII веке ми-бемоль минор вообще не употреблялся в качестве главной тональности – даже у такого смелого экспериментатора как Гайдн. (Баховский «Хорошо темперированный клавир» не в счет: там у автора была задача написать музыку во всех 24 тональностях – в том числе и в тех, к которым доселе никто еще не прикасался.) Правда, иногда эта тональность встречается как минорное трио, вариация или эпизод в ми-бемоль-мажорных медленных частях, менуэтах или вариационных циклах – у Гайдна, у Бетховена и даже (в единичных случаях) у Моцарта. Но не более того! Для XVIII века ми-бемоль минор был не только слишком «неизведанным» музыкальным аффектом, но и неудобным для оркестровой игры – особенно у струнных.
Самая первая симфония в ми-бемоль миноре относится уже к романтическому XIX веку, когда композиторы полюбили тональности с большим количеством знаков при ключе. Единственное известное нам сочинение в этом жанре и в этой тональности, написанное в то время, принадлежит нашему соотечественнику Римскому-Корсакову. Его Первая симфония – самый первый его опус в прямом и в переносном смысле слова. Он начал писать ее еще в начале 1860-х годов, сразу как только вошел в кружок молодых петербургских композиторов-любителей, собиравшихся вокруг Балакирева (Балакиревский кружок, он же – «Могучая кучка»). Затем работа была прервана из-за дальнего плаванья на военном клипере «Алмаз» (Римский-Корсаков начинал свою карьеру как потомственный морской офицер) и завершена лишь в 1865 году после возвращения в Россию. В том же году состоялась премьера симфонии под управлением Балакирева. Это сочинение стало по хронологии самой первой завершенной симфонией, принадлежащей перу балакиревца, представителя «национального» направления в русской музыке. (Сам предводитель кружка завершил своего симфонического первенца лишь год спустя!) Правда, более чем за десятилетие до этого самые первые русские симфонии уже вышли из-под пера Антона Рубинштейна. Но Балакирев, как известно, ненавидел Рубинштейна (за влияния Мендельсона на его музыку, за ее «немецкость», «нерусскость» – да и вообще за еврейское происхождение автора) и поэтому первый опус своего ученика он гордо назвал «первой русской симфонией». Симфония Римского-Корсакова написана по всем законам жанра (четыре части: аллегро, скерцо, медленная часть и финал), и в ней действительно сильно русское начало: помимо всего, ее третья часть написана на подлинную тему народной песни «Про татарский полон». Финал симфонии – мажорный (ми-бемоль мажор), как это станет обычным делом в романтическую эпоху.
Спустя четыре года после Римского-Корсакова Бородин тоже завершит, наконец, свою Первую симфонию (ми-бемоль мажор – о ней говорилось в предыдущем выпуске нашей рубрики). Но ее медленное вступление перед первой частью – опять же, в ми-бемоль миноре. Надо сказать, обе эти симфонии создавались примерно в одно и то же время и писались молодыми авторами под отеческим наблюдением Балакирева, имевшего в те годы непререкаемый авторитет среди своих учеников. Думается, выбор тональности с шестью бемолями при ключе тоже делался с подачи наставника, который был большим охотником до «многозначных» тональностей. (Правда, свою Первую симфонию он написал в «беззначном» до мажоре!)
Однако в этой тональности симфония Римского-Корсакова существует… лишь в своей первой редакции 1865 года. Как известно, позднее композитор стал переделывать свои старые сочинения. (Когда он стал профессором Петербургской консерватории, у него сформировался серьезный комплекс: Балакирев учил его «не тому». Об этом он довольно ясно говорит в «Летописи моей музыкальной жизни» – но в советские времена эти настроения композитора всячески «заглаживались» официальным музыковедением.) И вот, спустя двадцать лет Римский-Корсаков решил сделать новую редакцию своей симфонии – во многом изменив ее оркестровку (теперь он стал пользоваться хроматической медью вместо натуральной!) и перенеся всю ее музыку… на полтона выше, в ми минор. Поэтому мы вновь вспомним о ней, когда дойдем до этой тональности.
Все прочие значительные симфонии в ми-бемоль миноре созданы уже в ХХ веке. И, как мы сможем убедиться, связана эта тональность будет с образами преимущественно суровыми и сумрачными.
Арнольд Шёнберг не создал в своей жизни ни одной «обычной» симфонии, но он – родоначальник нового для ХХ века жанра «камерной симфонии», написанной не для большого оркестра, а для ансамбля солистов, где на каждую партию приходится лишь один инструмент. В 1906 году он завершил в Вене свою знаменитую Первую камерную симфонию для пятнадцати инструментов в тональности ми мажор (речь о ней пойдет в следующем выпуске) и сразу же начал писать Вторую – уже для девятнадцати инструментов и в тональности ми-бемоль минор. («Многозначные» тональности очень привлекали к себе немецких и австрийских композиторов морбидной эпохи конца XIX – начала ХХ века: Малера, Рихарда Штрауса, Цемлинского. Не обошло это увлечение и раннего Шёнберга.) Он успел полностью сочинить и оркестровать первую часть симфонии (медленную) и начать вторую (подвижную) – но затем прервал работу. Лишь в 1939 году, прожив уже шесть лет в американской эмиграции, он вернулся к своему сочинению. Вместо изначально задуманной трехчастной композиции он решил сделать свою симфонию двухчастной – завершив уже начатую вторую часть медленным эпилогом в ми-бемоль миноре, где возвращаются темы первой части. Премьера Второй камерной симфонии Шёнберга состоялась в следующем, 1940 году в Нью-Йорке под управлением Фрица Штидри. И по сей день это сочинение гораздо менее известно слушателям, чем Первая камерная симфония, которую играют везде. Из-за того, что завершено оно было лишь тридцать лет спустя, ему присвоен более «поздний» номер опуса – 38.
Среди других западноевропейских композиторов ХХ века, обращавшихся в своих симфониях к тональности ми-бемоль минор, следует упомянуть англичанина Ральфа Воана-Уильямса. В 1952 году он написал Седьмую симфонию под названием «Антарктическая» (Sinfonia antartica), в которую вошла его музыка к фильму «Скотт из Антарктики» (“Scott of the Antarctic”, 1948) – о трагической истории экспедиции в Антарктиду Роберта Скотта, состоявшейся в 1912 году и завершившейся гибелью всех ее участников. Симфония была исполнена в следующем году в Манчестере под управлением Джона Барбиролли. Она состоит из пяти частей, которые называются Прелюдия, Скерцо, Пейзаж, Интермеццо и Эпилог. Помимо оркестра в крайних частях симфонии участвуют женские голоса (солистка и хор), поющие а капелла. В оркестре задействованы также звукоизобразительные эффекты – такие, например, как ветряная машина. Настоящего ми-бемоль минора там совсем немного – каждая часть написана в новой тональности. В целом это сочинение можно считать типичной представительницей «симфонии из киномузыки» – разновидности программно-сюжетной оркестровой композиции, распространившейся в ХХ веке вместе с музыкой к кино, которая до определенного времени сочинялась авторами весьма иллюстративно по отношению к экранному действию. (Причем это вовсе не обязательно могут быть симфонии, переделанные из киномузыки. Например, Одиннадцатую и Двенадцатую симфонии Шостаковича из-за их излишне зримой сюжетности можно было бы назвать музыкой к воображаемым кинофильмам на революционную тему.)
Одно из самых выдающихся произведений в ми-бемоль миноре – Шестая симфония Мясковского (ор. 23), написанная в 1923 году для оркестра и хора, который вступает в последней части. Известно, что Мясковский часто и охотно обращался в своих симфониях к тональностям, которыми композиторы пользовались прежде очень мало или не пользовались вовсе.
Среди всех симфоний Мясковского Шестая – самая продолжительная по звучанию (идет больше часа) и самая мощная по составу оркестра (тройной состав духовых – с шестью валторнами, арфой и челестой). Наверное, это лучшая симфония из когда-либо им написанных. И по-видимому – единственное произведение русской музыки, темой которого стала трагедия Гражданской войны. Не героизированный ее образ (такие сочинения создавались в Советском Союзе пачками!), а именно опустошение, смерть и оплакивание мертвых. Премьера состоялась в следующем, 1924 году в Большом театре под управлением Николая Голованова, а еще год спустя партитура вышла в венском Universal Edition. Удивительно, что советская цензура ни тогда, ни после никак не препятствовала этому сочинению. (Хотя в 1920-е годы его кусали идеологи из РАПМ, за версту чувствовавшие крамолу, – и на характерном для них птичьем языке обвиняли это сочинение в «упадочно-мистическом миросозерцании».) В 1947 году Мясковский несколько смягчил программный посыл своей симфонии, сделав новую редакцию партитуры, где дал указание относительно хора в последней части (со словами духовного стиха «О расставании души с телом»): хор может участвовать в симфонии «по желанию» (“ad libitum”). Именно в таком «бесхоровом» виде ее потом долгие годы исполняли в СССР. А музыковеды, изворачиваясь, писали, что Шестая симфония Мясковского «правдиво и с большой своеобразной силой раскрывает переживания значительных слоев русской интеллигенции, еще не сумевших понять великую истинную сущность Октября, но уже стихийно почувствовавших силу и необходимость Великой революции». Вот такая вот абракадабра.
На создание Шестой симфонии повлияли обстоятельства жизни композитора в первые годы после революции. Потом они долгое время замалчивались советскими музыковедами, до самых 1990-х годов изображавшими Мясковского как «беспартийно-сочувствующего попутчика». Конец полуправде пришел лишь в наши дни. Так, по словам Михаила Сегельмана (исследователя и большого знатока Мясковского), Шестая симфония – «реквием, вопль души по отцу, генералу Якову Мясковскому, застреленному революционным солдатом в 1918 году, на глазах у сына». В наше время опубликованы письма и дневники Мясковского, где он упоминает своих близких и родных, в те же самые годы Гражданской войны умиравших от голода и тифа. В 1921 году он записал: «Умерла 25/XI тетя (…). Приехал в Петроград после смерти… В ледяной квартире ночью пришли на мысль образы средних частей VI симфонии». По свидетельствам друзей, идея поместить в финал сочинения мотивы двух французских революционных песен – «Карманьолы» и «Так пойдет!» (“Ça ira!”) – пришли к автору еще в 1919 году. Но это далеко не единственные музыкальные цитаты в этом произведении: в его третьей и четвертой частях появляется мотив заупокойного песнопения “Dies irae” («День гнева») – хорошо узнаваемый музыкальный символ смерти (начиная еще с Берлиоза).
В Шестой симфонии Мясковского четыре части. Первая (Poco largamente. Allegro feroce) – быстрая, яростная и «взвихренная», с коротким медленным вступлением, напоминающим, по мнению некоторых друзей композитора, крики ораторов на митингах («Смерть, смерть врагам революции!»). Вторая часть, заменяющая скерцо, – быстрая и сумрачная (Presto tenebroso), с медленной печально-отрешенной колыбельной в среднем разделе, которая звучит как оплакивание мертвых. (Именно эта музыка возникла у Мясковского под впечатлением от смерти его тети в 1921 году – женщины, на многие годы заменившей ему мать.) Третья часть – медленная (Andante appassionato), в ней впервые появляется аллюзия на мотив “Dies irae”. Финальная часть устроена в чем-то по образцу бетховенской Девятой: она состоит из нескольких разделов, и в ней вступает хор. Но на этом сходство заканчивается. В противоположность Бетховену, утверждающему в своем финале идеалы «разума, света и братства», свой финал Мясковский начинает как раз с картинных образов торжества революционной толпы (мотивы французских песен) – которые сменяются мрачно-заупокойным “Dies irae” (здесь этот мотив цитируется вновь – и уже напрямую), а уже вслед за этим вступает хор. Не с радостной одой (как у Бетховена), а с плачем – скорее даже воплем! – на слова заупокойного старообрядческого стиха: «Как душа-то с телом расставалася, / Расставалася да прощалася: / Как тебе-то, душа, на суд Божий идить, / А тебе-то, тело, во сыру мать землю».Лишь после этого хора – главной смысловой кульминации симфонии – наступает мажорное заключение-катарсис, отчасти напоминающее похожие места у Мусоргского («Борис Годунов», «Песни и пляски смерти»).
Симфония имела огромный успех уже на первом исполнении в Москве. С таким же триумфом она стала исполняться и за границей – особенно такими дирижерами, как Генри Вуд, Фредерик Сток и Леопольд Стоковский. В наши дни Шестая симфония Мясковского звучит незаслуженно редко – но среди дирижеров первой величины, в чей репертуар она входит, можно назвать Владимира Юровского, сыгравшего ее в Лондоне впервые после Генри Вуда (и записавшего на диск с Лондонским филармоническим оркестром).
Другая выдающаяся симфония в ми-бемоль миноре – тоже русская, и тоже под номером «6». Это Шестая симфония Прокофьева (ор. 111), завершенная в 1947 году. Чаще всего «военной» симфонией называют Пятую симфонию композитора (написанную в 1944 году). Но, думается, его единственная подлинно «военная» симфония – именно Шестая, хотя написана она уже после войны. В Пятой симфонии как-то не ощущается главного: трагедии войны – в ней есть скорее любование силой и мощью, но нет драматического начала. (Поэтому лично для меня эта симфония больше «тыловая», чем военная.) А вот в Шестой симфонии слышна настоящая боль – столь нечастый гость в музыке Прокофьева. Сам он говорил, что его сочинение – именно о переживании последствий войны.
Симфония состоит всего из трех частей. Это тоже не совсем типично для Прокофьева. (Если не считать его двухчастную Вторую симфонию. В остальном он всюду склоняется к «правильным» четырехчастным циклам.) Ми-бемоль минор – тональность первой части. В ней она начинается и в ней же и завершается. Здесь слышится настоящая поступь силы разрушения. Вторая, медленная часть – не обычное для Прокофьева «лирическое интермеццо», а еще большее погружение в переживание боли. Стоит обратить внимание на «цепляющий» мотив-вскрик, дублированный в диссонирующую увеличенную октаву между крайними голосами (!). Очень загадочно звучат неожиданные и постоянно возвращающиеся аллюзии (хорошо узнаваемые!) на мотив «раны Амфортаса» из вагнеровского «Парсифаля». (Вряд ли это сделано композитором неосознанно. Можно ли считать, что это как-то связано с образом главного музыкального вдохновителя нацизма? Или это нарочитая аллюзия на «немецкую музыку» по аналогии с «военными» Седьмой и Восьмой симфониями Шостаковича? Или что-то еще?) Ликующий мажор финала симфонии звучит не как дежурный советский оптимизм, а как радость надежды, завоеванная преодолением боли.
Среди других симфоний ХХ века, написанных в ми-бемоль миноре, стоит упомянуть еще как минимум три сочинения русских авторов, созданные после Мясковского и Прокофьева.
Например – Вторую симфонию Александра Черепнина (ор. 77, 1951), сына Николая Черепнина (ученика Римского-Корсакова), который из-за революции в юности покинул Россию вместе с родителями, жил долгое время в Париже, а затем – в США. Его музыкальный язык развивался в направлении хроматической модальности, близкой Скрябину и другим русским композиторам (Обухову, Вышнеградскому), а вслед за ними – Мессиану. (Своими находками Черепнин-младший стоит ближе всего именно к нему.) Поэтому его музыку можно считать уже не вполне тональной в традиционном понимании этого слова. Тем не менее на партитуре его Второй симфонии (написанной в США) указана тональность ми-бемоль минор.
Обе (!) свои первые симфонии написал в ми-бемоль миноре советский композитор послевоенного поколения Вячеслав Овчинников – некогда очень известный и много исполнявшийся у нас в стране. (С ним сотрудничали такие, казалось бы, разные по духу кинорежиссеры как Бондарчук и Тарковский. Именно он написал музыку к «Андрею Рублёву».) Его Первая симфония (1956) – одночастная (завершается оптимистически в ми-бемоль мажоре), ее премьерным исполнением дирижировал Максим Шостакович в 1972 году. А Вторая симфония (1973) – «для большого струнного оркестра» (который временами разделяется «по-бартоковски» на две группы) – трехчастная, начинается и завершается в разных тональностях (конец – в еще более оптимистическом до мажоре!).
Ну и последнее, что еще вспоминается в связи с ми-бемоль минором, – Одиннадцатая симфония латвийского композитора Яниса Иванова, написанная в 1965 году.