 Книги
Книги
В мае петербургское «Издательство Яромира Хладика» выпустило книгу композитора Бориса Филановского (БФ). О выходе его первого сборника текстов, публицистике и музыке во время карантина с музыкантом беседовала Элина Андрианова (ЭА).
ЭА Название вашей книги – «Шмоцарт». Так же называется ваше фортепианное трио 2006 года. Здесь есть некая связь?
БФ На самом деле мне просто очень нравится слово. «Шмоцарт» – это такой нью-йоркский идишизм.
ЭА Расскажите, как появилась идея издать книгу?
БФ Это была не моя инициатива – книжку издавать. Я с какого-то момента ушел в подполье и перестал выкладывать на Фейсбуке (организация, деятельность которой запрещена в РФ) свои довольно специальные заметки. И когда Игорь Булатовский – человек с безупречным литературным вкусом – предложил собрать мои дневниковые почеркушки в книжку, я был очень удивлен. Рядом с Мортоном Фелдманом, с теми монстрами, которых он публикует, вдруг я со свиным рылом в калашный ряд.
ЭА Как вы отбирали тексты для книги?
БФ Но это же не тексты, а просто… там че-то квакнул, здесь че-то пискнул. Опавшие хлопья, как я их называю. Там есть более-менее законченные высказывания, есть дневниковые записи, какие-то bons mots, про детей, все вперемешку. Видимо, это Игоря и привлекло. Я побросал заметки в один файл, что-то переставил, чтобы появилось какое-то дыхание. Игорь не вмешивался в работу.
И это было второе большое удивление, потому что, ну елы-палы, такой крупный поэт, литератор, редактор с огромным опытом, издатель, и тут он тебе говорит: «Знаешь, вообще не оторваться. Ничего не меняй. Я читаю с огромным удовольствием».
У меня чем дальше, тем больше комплекс самозванца. И дневник как бы «никого», как он может быть интересен? Мне самому интересно, потому что я – это я. Я себя читаю, я гляжусь в это зеркало. И хотя нарциссизм мне свойственен, но не настолько, чтобы свою книжку, да еще в таком жанре – такое ненавязчивое бла-бла-бла – продвигать.
ЭА Вы пишете тексты на протяжении всей музыкальной карьеры. Практика писания о музыке, говорения о музыке, проговаривания стала необходимой для вас?
БФ Она стала действительно необходимой в последние полтора-два года, когда я начал писать рукой, в блокнотиках. Половина «Шмоцарта» написана в этот период. Вождение пером по бумаге воплощает физически производство мысли. Я чувствую, что мысль можно производить, и что ее можно производить из ниоткуда. Может, она окажется уже подуманной кем-то, не очень стройной или вперед смотрящей, но само производство не останавливается.
ЭА Этот период совпадает с вашим уходом в «подполье», как вы это назвали? Временем, когда вы меньше стали писать онлайн?
БФ Да, именно.
ЭА Это такой интимный процесс?
БФ Я описываю достаточно интимные композиторские переживания, которые не знаю, как обнародовать, кроме как в форме дневника. Не роман же с продолжением в Фейсбуке (организация, деятельность которой запрещена в РФ) писать.
Еще писание для меня – это пребывание в эмпиреях потенциальности, пребывание в стадиях не то что эскизных, а доэскизных. Когда еще все возможно, когда еще практически ничего не родилось из того, что могут увидеть чужие глаза в виде рукописи или набросков.
ЭА С ваших слов выходит, что письмо – это интимное, личное дело, а создание музыки тогда – публичное…
БФ Интимное, потому что у письма – очень короткий технологический цикл. Ты написал, кто-то прочел, вот и все дела. А у производства музыки технологический цикл довольно длинный. И тут выход в две темы.
Первая – это мой проект direct music. Любой может заказать мне пьесу на лист А4, и ее названием станет порядковый номер и имя заказчика или человека, кому он хочет посвятить сочинение (примерно 4/5 заказов – это подарки). Такой формат сокращает технологический цикл, ведь между мной и заказчиком нет ни издателя, ни концертного зала – музыкальное натуральное хозяйство.
А с другой стороны, натуральное хозяйство – это что? Это карантин. Вдруг мы увидели, насколько важна связность музыкального поля, музыкального тела, которое мы все жрем, и эта жратва происходит, как правило, все-таки офлайн. Пойти на концерт, встретиться там с кем-то. Или как музыка академическая делается? Нужно пойти на репетицию, где тебя играют, в концертный зал на свою премьеру. Мы все чувствуем, что мелосфера оказалась рассеченной, и мы, как ее часть, зависли в состоянии натурального хозяйствования.
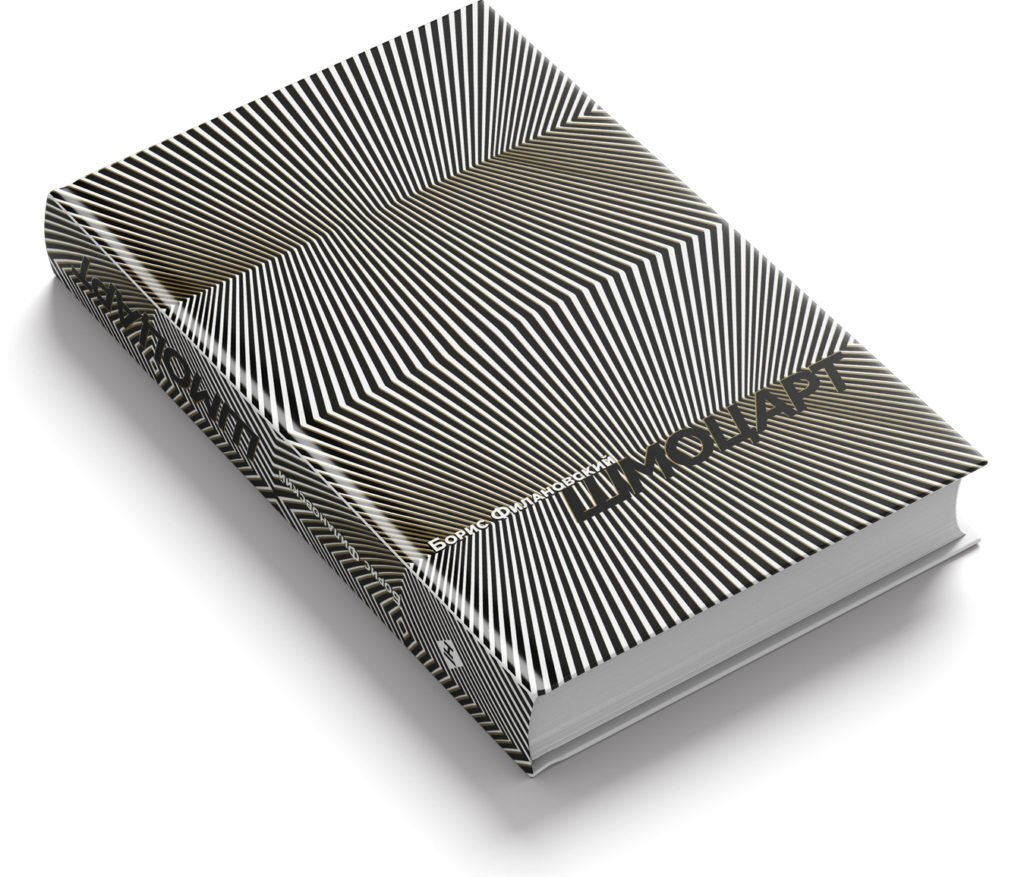
ЭА Раз вы заговорили о direct music, могли бы вы рассказать, как родился этот проект?
БФ Direct music появился вынужденно, я об этом упоминаю в «Шмоцарте». У меня ведь нет как таковой карьеры, заказов, настоящей музыкальной жизни. С издательствами и концертными агентствами у меня как-то не складывается. Все, что я имею сейчас, – исключительно мои усилия, больше ничьи. Но они не могут быть настолько же эффективными, как если бы кто-то мной профессионально занялся.
С одной стороны, мне обидно. Я не боюсь признаться, что завидую более успешным коллегам. А с другой стороны, может, и композитор я хреновый? И никто не должен мной интересоваться, и место мое в этом аутсайдерстве, да? Вот на обочине постою с баночкой соленых огурцов, пока вы там рассекаете на своих минивэнах. Я не знаю. Но понятно, что direct music не от хорошей жизни возник. Вообще, всех, кто обращается ко мне, я сперва стараюсь отговорить.
ЭА Почему?
БФ Чтобы не было недопониманий. Я не пишу стилизаций. Поначалу приходили предложения вроде «пусть начинается как вон там-то, продолжается так-то, заканчивается так-то». Ответ один: мне, конечно, очень нужны деньги, но на это я не готов. Теперь я прошу послушать мою музыку на YouTube. И только после того, как согласие получено, могу начинать, чувствуя себя свободным.
ЭА За год существования direct music у вас поменялось отношение к композиторскому ремеслу?
БФ Конечно! Никакого writer’s block больше не существует. Я написал три десятка этих вещиц и надеюсь продолжать. И более того, мы запустили платформу, где тем же самым будут заниматься другие композиторы. Если это дело взлетит, тогда окажется, что я в некотором смысле инициировал новый сегмент в экономике академической музыки. Посмотрим.
ЭА Как вы считаете, почему академические композиторы так сильно зависимы от институций, конкурсов и грантов?
БФ Это связано с невещественностью музыки. Я могу заказать портрет художнику, но что я закажу композитору? Музыка претендует на такую степень абстракции, которая может быть только очень сильно обобществленной. Она адресована большим социальным стратам, мощным интерсубъективным множествам и поэтому финансируется обезличенно, через фонды, фестивали, оркестры, you name it. А обратный эффект такой, что композиторы разучились смотреть в лицо своему слушателю. Они считают его статистически ничтожной единицей большого обезличенного множества. И в общем они правы, иначе не могли бы так абстрактно адресоваться к неопределенному кругу лиц.
Для композитора это никогда не было «глаза в глаза», тет-а-тет, vis-à-vis. То, что раньше финансировал персональный капитал, сосредоточенный у графов, князей, курфюрстов, перешел затем к оперным домам, издателям, богатым исполнителям, меценатам. Затем к радиостанциям и так далее.
В конце концов, это эрзац адресования вверх, ну, Адресату, – как было во время Ренессанса и до. В рамках общественного разделения труда композитор – специалист по сакральному. Он его деконструирует, разбирает. Он отвечает за то видение, которым сакральное видят другие.
ЭА Вы сказали, что 4/5 заказов для direct music – это подарки. А если бы вы сами себе заказывали пьесу, кому бы вы ее подарили и по какому поводу?
БФ Мне дорога идея бесконечно растущего сочинения. Так что если бы я заказывал такую музыку, то для своих детей, чтобы они росли вместе с ними.
ЭА Расскажите поподробнее, что вы имеете в виду под «бесконечно растущим произведением»?
БФ Это сочинение, которое представляет собой бесконечную серию законченных форм. Промежуточные итерации можно исполнять как угодно, вне контекста, отдельно, не как серию концертов, а просто так. И в то же время это не work in progress, потому что каждая часть обладает законченностью. Законченная форма вырастает, распухает в какую-то еще, и еще, и еще. Это след, как композитор живет музыкальную форму.
ЭА То есть это условная «бесконечность»…
БФ Есть анекдот, как прусский король Фридрих Великий в одном из сражений заорал своей растерявшейся коннице или пехоте: «Собаки, вы что, надеетесь жить вечно?!» Понятно, что я не надеюсь жить вечно. Но есть художественные практики, которые преодолевают конечность человеческого существования и передают себя от человека к человеку как генокод, например, как архаический фольклор.
Пока у меня есть три заказных бесконечно растущих произведения под названием Infinite Superposition и еще несколько, которые начаты, но пока не нашли меценатов. Практику их сочинения я определяю как супер-позицию, по аналогии с ком-позицией. Про это много в «Шмоцарте» соображений.
ЭА Давайте поговорим о публицистике, ведь она занимает большую часть вашей жизни.
БФ Да, несколько больше, чем мне хотелось бы.

ЭА Вы начали публиковаться практически сразу после выпуска из консерватории, в 1996 году. Как это произошло?
БФ Это был единственный способ зарабатывать. Ольга Манулкина сосватала меня на фестиваль Gaudeamus в 1996 году. Мне было двадцать восемь лет, это был мой первый выезд за границу, и я попал сразу в Голландию, да еще и на два фестиваля – Gaudeamus в Амстердаме и Фестиваль старинной музыки в Утрехте. Оба – во всем их тогдашнем великолепии. Конечно, я немного прифигел по сумме впечатлений.
Когда я вернулся, Дмитрий Циликин, царствие ему небесное, предложил написать про поездку в «Час пик». Я тогда толком не знал, как и чего. (Годами позже я преподавал в проартевской Школе культурной журналистики, где редактировал тексты прекрасных мальчиков и девочек. И они писали так же, как я в своей первой статье. Ну, может, у меня вышло чуть грамотнее и содержательнее, но тем не менее.) В «Час пик» я написал текст сразу на полполосы. Платили построчно и очень мало, но время было голодное, а как зарабатывать, я тогда не понимал. Так и началось.
ЭА Вы также публиковались в «Коммерсанте».
БФ Сначала в 1998 году был «Русский телеграф» и Петя Поспелов. Туда я писал много текстов уже более-менее коммерсантовского формата, не стиля, конечно. А с 2001 года, кажется, и в «Коммерсантъ» начал пописывать. Я по-прежнему не понимал огромного количества вещей, и Ольга Манулкина очень тактично и снисходительно мне все объясняла, за что я ей очень благодарен. И постепенно это стало ремеслом, я стал профи. Еще в начале 2000-х я писал во «Время новостей», где Дина Годер была редактором отдела культуры, и в специальные журналы типа «Аудиомагазин». Но я плохо помню это время.
ЭА Вы были и композитором и критиком. У вас возникали из-за этого сложности, может быть, конфликты интересов?
БФ Конфликт интересов возникает, если ты смешиваешь социальные роли, перекидываешь ресурс из одной в другую. У меня этого никогда не случалось. Если я и высказывался про современную музыку, то чаще в формате рецензий на диски каких-то там далеких зарубежных композиторов. Моя совесть чиста: они не могут прочесть «гадость», которую я написал на русском, и никогда не узнают о моем существовании. Про российских коллег я написал два-три текста, да и те, в общем-то, хвалебные.
ЭА Но в New York Times существует свод правил для критика. Вплоть до того, что если ты писал превью, то ревью писать уже не можешь.
БФ Это верно. Но дело в том, что критик, который пишет в тот же New York Times, получает столько денег, что может пойти на концерты за свои кровные. Он может ни с кем не общаться и блюсти свод профессиональной чести критика. Закономерность вот какая: чтобы размежеваться, нужно быть богатым. Профессиональные стандарты соблюдают, когда тебе достойно платят. Тогда можно не дружить с композитором, не просить у филармонических администраторов или оперных директоров бесплатные билеты и не чувствовать себя обязанным написать благосклонную рецензию. А в России так никогда не было, и сейчас, мне кажется, такого нет.
ЭА Ваши рецензии тех лет запоминаются едкими и иногда резкими замечаниями. Вы когда-нибудь жалели о написанном?
БФ Если текст хорошо написан, жалеть не о чем.
ЭА То есть эстетика выше этики.
БФ «Написанность» текста – настолько важное качество, что оно перевешивает неполиткорректность. А о чем жалеть? О том, что зря поругал? Или скорее даже о том, что малодушно похвалил, когда надо было разнести в пух и прах? Наверное, можно и что-то такое найти.
ЭА Читая антологию «Новая русская музыкальная критика», в которую вошли и ваши тексты, я нехотя задалась вопросом, что случилось. Что случилось с дерзкими критиками конца 1990-х – начала 2000-х? Люди, олицетворявшие когда-то расцвет музыкальной журналистики в России, устали и исписались, вклинились в систему?
БФ Думаю, с возрастом становишься добрее. В молодости всех рвешь зубами, и кажется, что ты-то знаешь, как правильно, а все эти старперы неизвестно что и зачем делают. Но также в открытии чего-то нового есть первобытная энергия. И в открытии возможностей свободной критики и свободного слова эта энергия была. А затем это поле превратилось в возделанную делянку – ее надо пахать и бережно относиться к ее ресурсам, чтобы урожай приносила.
И музыке действительно не хватает молодой злой критики. В театральной среде с этим все в порядке, насколько я понимаю. Есть Антон Хитров, есть Вилисов, прости господи, который попирает все моральные стандарты, но тексты у него энергичные, дай бог всякому. А в музыкальной критике… Может, я не слежу и не знаю.
ЭА В конце нашего интервью я хотела бы вспомнить ваш лозунг, который задел многих российских музыкантов: «Убей в себе DSCH». А кого спустя пятнадцать лет надо сейчас убить?
БФ Я бы сказал, что нужно убить в себе себя как цельность. Но это мой личный ответ, только для меня. Быть не целым, не цельным. Убить в себе стремление к логичности, завершенности, с чем бы оно ни было связано. У большинства людей оно связано с какими-то хорошо известными паттернами, принадлежащими тому или иному стилю, но это только частный случай. Я хочу все время обновляться, быть ошибкой, быть агентом ошибки. Не замыкать себя как систему.
ЭА Тогда написание бесконечного произведения – это своего рода метафора этого обновления и постоянного производства ошибок.
БФ Прошло слишком мало времени, сделано еще слишком мало. Я только могу надеяться.