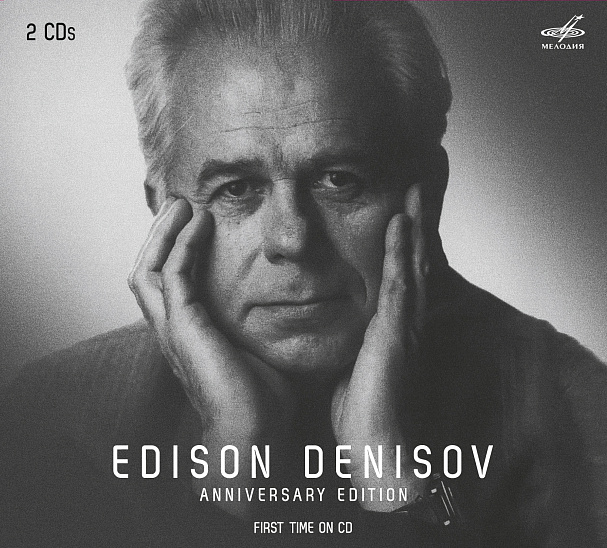
Двойной альбом с записью авторского концерта Денисова 1990 года – двойное приношение: в нынешнем году – 90 лет со дня рождения Денисова и год со дня смерти Геннадия Рождественского. Оба – главные герои исторического вечера, где их разговор – не менее важная составляющая, нежели сама музыка. Очень выразителен этот двойной портрет: на первый взгляд, голосу триумфатора и любимца публики Рождественского абсолютно контрастен голос интроверта Денисова, человека как будто более скромного и менее уверенного в себе. Однако скоро становится слышно, сколько в кажущейся скромности скрыто внутренней силы. На концерте присутствует и художник Борис Биргер, чьей работой вдохновлена открывающая программу «Живопись», и он в тот вечер наверняка был не единственной знаменитостью в зале.
Сам концерт – исторический и по тогдашним, и по нынешним меркам. Почему по тогдашним – понятно: в 1990 году еще была свежа память о том, как сочинения Денисова и его коллег оказались не в чести у начальства и исполнялись полуподпольным образом. Почему по нынешним, увы, тоже: музыка Денисова практически лишена броских внешних эффектов, и сегодня трудно себе представить дирижера или промоутера, который запланировал бы симфонический концерт только из нее одной. В годы круглых дат подобным образом везет Шнитке и Губайдулиной, но не Денисову: в 2006 году, к 10-летию со дня его смерти, и в 2009-м, к 80-летию со дня рождения, в московских концертах памяти Денисова звучало по одному его оркестровому сочинению и не более.
Более вероятным в наше время выглядит вечер музыки Шнитке, Денисова и Губайдулиной – вроде того, который провел в 1982 году в БЗК все тот же Рождественский: запись концерта несколько лет назад переиздана «Мелодией» на CD, увы, без блистательных комментариев маэстро. Сохранение прямой речи двух выдающихся музыкантов, почему-то данной в буклете только на английском, – один из главных плюсов нынешнего издания концерта 1990 года. Как и концерт 1982-го, он начинается с «Живописи», первого зрелого оркестрового сочинения Денисова: Рождественский особенно его ценил и неоднократно исполнял, а в этом году свой летний абонемент именно с «Живописи» начал Владимир Юровский, прямой наследник просветительских традиций Рождественского. Но на вечер музыки Денисова, кажется, сегодня не решился бы и он. И тем показательнее, что Юровский исполняет «Живопись»: он – большой мастер расслышать ХХ век в классике предшествующих столетий, а музыку ХХ века сыграть так, чтобы никто не усомнился в ее праве считаться классикой.
Классически звучит «Живопись» и в интерпретации Рождественского: даже странно, что когда-то она могла быть не ко двору. Как и Концерт для флейты с оркестром, «Живопись» тяготеет к нескольким вершинам – в первую очередь к Дебюсси и Веберну. К «Послеполуденному отдыху фавна» отсылает уже первая фраза флейты, к Веберну – концентрированность: сочинение длится менее десяти минут, но не воспринимается как короткое, оно предельно насыщенно. (Свойство, сохранившееся в музыке Денисова до самых поздних опусов – таких, как Камерная симфония №2.) Ближе к финалу обозначается третья вершина – Шостакович: как ни стремится порой Денисов дистанцироваться от него и его музыки, взрыв меди на шестой минуте напоминает именно о нем, что проявится и в следующем номере программы – Флейтовом концерте (солист Дмитрий Денисов).
Предваряя его и вновь приглашая автора на сцену, Рождественский скажет по-свойски: «Эдисон Василич, поди сюда», хотя тут же перейдет обратно на «вы». Говоря о сочинении, появившемся в год смерти Шостаковича, Денисов уже второй раз за вечер с уважением вспомнит мастера, когда-то давшего ему путевку в жизнь; в записных книжках начала 1980-х Денисов называл музыку Шостаковича то «античеловечной», то «поразительно плохой», и тем радостнее слышать оценку более взвешенную. И вновь фирменная шутка Рождественского, называющего одну из частей Флейтового концерта, лишенную тактовых черт, «бестактной», хотя и «тактичной». (По словам самого Денисова, чтобы «упростить себе жизнь», Рождественский перед московской премьерой Концерта все же расставил тактовые черты.) И вновь тяготение к Веберну и Дебюсси; Шостакович тоже рядом, но не как источник влияния, а как объект поклонения и скорби – это хорошо слышно в Третьей части Концерта, отмеченной светлой печалью.
Кульминация программы – Симфония для большого оркестра (не указан номер – 1, поскольку на тот момент еще не создана Симфония № 2; пять лет назад Владимир Юровский представлял ее в Москве, он же сделал первую и пока единственную ее запись). Денисов писал ее по заказу Даниэля Баренбойма и во вступительном слове говорит о том, как удачно тот на парижской премьере объединил Симфонию с сочинениями Чайковского и Скрябина, составив полностью русскую программу. Тем забавнее читать в книге «Признание Эдисона Денисова» слова об исполнении Симфонии в Чикаго, также под управлением Баренбойма и также в рамках русской программы, куда вошли Увертюра к «Руслану и Людмиле» Глинки и Фортепианный концерт №3 Прокофьева: «Концерт, конечно, плохой и написан плохо, и оркестрован он из рук вон плохо – это образец того, как нельзя писать партитуры для оркестра».
В исполнении Баренбойма, также записанном на CD, Симфония почти на десять минут дольше, чем у Рождественского, хотя и его интерпретацию не назовешь торопливой: в Симфонии четыре части, среди которых ни одной быстрой, а вторая, третья и четвертая исполняются без перерыва. И хотя в той же книге Денисов говорит о нежелании воспроизводить модель симфонии «по Шостаковичу», его влияние чувствуется – пусть не в манере письма, но в подтексте. Как бы искренен ни был Денисов в стремлении уйти от прямой программности, мы, без сомнения, ощущаем: слушатель 1990 года воспринимает Симфонию как рассказ о времени и о себе самом. Здесь нет повествовательности на манер Шостаковича, но есть присущие ему раздумчивость и тоска, хотя, как знать, не привносит ли их в исполнение сам Рождественский?
Зато Денисов удивительно точен в описании кульминации финального Adagio: «…взрыв – и сразу как бы ослепительный поток света – ре мажор у четырех труб и четырех тромбонов, который совершенно заливает все вокруг себя». Неожиданное, словно радуга после бури, сияние напоминает еще об одном знаковом сочинении середины 1980-х – Виолончельном концерте №1 Шнитке, в финале которого усиленная микрофоном виолончель звучит поистине как голос с неба. И это стремление к свету в сочинениях таких разных художников, не так уж светло смотревших на мир, говорит о многом. А одним из самых преданных интерпретаторов их музыки до конца своих дней оставался именно Рождественский, без которого мы живем уже целый год.